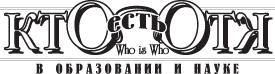Владимир Шейнкман: «Готовить людей для исследования и работы в области мерзлоты — жизненная необходимость» №1(11), 2014 год
Горячий интерес к холоду
Более 30 лет Владимир Шейнкман преподает геолого-географические дисциплины и руководит учебными полевыми практиками в России и за рубежом. Читает курсы лекций по гляциологии и мерзлотоведению, геоморфологии, палеогеографии плейстоцена. Опыт общения с мерзлотой занял большую часть его жизни, и не только геологической.
В России несложно прикоснуться к многолетней мерзлоте — она занимает около 65 % её территории. Бесконечный научный интерес Шейнкмана разделяют с ним коллеги из Института криосферы Земли СО РАН, возглавляемого академиком Владимиром Мельниковым.
Работа с академиком Мельниковым, по словам Шейнкмана, это возможность создать вокруг себя некое энергетическое поле и вовлечь туда молодых учёных, построить новую систему преемственности, которая была разрушена годами перестройки. За последние несколько лет академик Мельников собрал вокруг себя команду «последних из могикан» и создал условия, чтобы эта команда успела воспитать новое поколение. «Мельников — гений менеджмента, локомотив, который тащит за собой и научный центр, и созданный им же Институт криогенных ресурсов ТюмГНГУ, и многое другое. И все, кто работает с ним в команде, привлекаются к преподаванию, — объясняет Шейнкман. — Наша кафедра криологии Земли Тюменского нефтегазового университета готовит специалистов-мерзлотоведов. Таких кафедр в России единицы. Две самые крупные — на географическом и геологическом факультетах МГУ, немного меньше наша, Тюменская. Есть ещё маленькая кафедра в Якутском университете и РГГРУ (МГРИ им. С. Орджоникидзе)».
Тюменская область нефтяная. Здесь необходимо не только осваивать месторождения, но и обладать особыми навыками строительства дорог и городов в области многолетней мерзлоты. Чтобы подготовить соответствующих специалистов, «могучей кучкой» Мельникова создана кафедра криологии в Тюменском университете, при этом поставлен акцент: готовить людей для исследования и работы в области мерзлоты.
О востребованности специалистов-мерзлотоведов в России стали говорить не так давно. Да и до сих пор далеко не всякий руководитель из числа российских регионов понимает, что мерзлота — довольно сложное явление, с которым, как утверждает Шейнкман, надо общаться на Вы. По мнению учёных-мерзлотоведов, каждый современный управляющий должен иметь в своём штате специалистов, которые будут способны его консультировать о правилах поведения в холодной сфере со всех точек зрения — строительства, проектирования, охраны среды, рационального природопользования.
Однако игнорирование мнения учёных можно наблюдать в России повсеместно. «Сегодня во многих местах бывших комсомольских строек Забайкалья будто Чингисхан прошёл: дорога то появляется, то пропадает, а ведь на её строительство потрачены миллиарды», — говорит Шейнкман. В противоположность этой разрухе — грамотно построенные северные города: Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Салехард, Надым — с хорошими дорогами, не уступающими финским и норвежским, и условиями жизни европейского стандарта.
Необходимо разумно осваивать Арктику с обязательным участием в этом процессе грамотных специалистов — в этом мерзлотоведы убеждались неоднократно. Особенно необходимо прислушиваться к мнениям криологов, архитекторов, строителей, эксплуатационных служб. В качестве примера стоит привести прежний Норильск, бывший своего рода образцом возведения зданий на вечной мерзлоте. Советы криологов там воспринимались как неукоснительное руководство к действию. Сейчас ситуация резко изменилась в худшую сторону.
Кто прошёл через тайгу
Сегодня набор на кафедре криологии в Тюменском университете составляет 30 человек. Эта цифра превышает студенческий набор в Московском университете, хотя, если подумать, странного здесь ничего нет: Тюмень — область интенсивного освоения. Кроме того, здесь, по примеру развитых западных стран, уже появились активные топ-менеджеры, которые заставляют деньги работать на свой регион. А ведь получение максимальной прибыли всегда связано с грамотным научным подходом.
Потому-то тюменские организации начинают проявлять интерес к будущим специалистам ещё во время их учёбы. «Третьекурсники, которых я курирую, — заметил между делом Владимир Семёнович, — все уже работают: в проектной либо изыскательской организации. Наших молодых мерзлотоведов разбирают достаточно бойко. А особо крупные компании, такие, к примеру, как «Фундаментстройаркос», постоянно держат связь с кафедрой и ежегодно определяют, сколько специалистов им потребуется в ближайшем будущем».
Навыки мерзлотоведов молодёжь приобретает не только благодаря теории. Летние практики под руководством Шейнкмана длительностью около полутора месяца вживую знакомят студентов со свойствами мерзлоты. Большинство из них приходят на геологический факультет, чтобы вести изыскательскую работу, но именно практика показывает, смогут ли они ею заниматься. «Как правило, наши студенты, выросшие в городе, понятия не имеют, что такое тайга на 500 км, где нет ни одной живой души, — делится Владимир Семёнович. — Но, попадая в это пространство, они видят живую реку, её обрывы, сложенные ледовым комплексом. Мы поднимаемся в горы, где есть многовековые ледники. Живём в тайге, где ребята узнают, как вести себя, если встретишь медведя или змею. Только так появляется чувство приобщённости к природному процессу. Поэтому задачей практики я вижу не только конкретное, но и общее: показать молодым людям серьёзные, мощные природные процессы под названием криогенез».
О своей первой практике Шейнкман вспоминает с улыбкой: «Это было весной в Якутии. Вертолёт выбросил нас в тайге, кругом безлесные горы, снег по грудь, мороз под 40. Нужно ставить палатки, нарубить дров, заготовить всё необходимое. Я не умел ничего, но уже через два месяца умел всё».
В обучающие экспедиции учёный берёт не всех: «Только человек 15, и именно тех, кто хочет со мной ехать. Причём я сразу пре-дупреждаю, в каких условиях мы будем жить и чем заниматься. Если студенты хотят стать настоящими криологами, то должны знать, как работать в условиях полной автономии таёжной России. Пройдя через это и вернувшись обратно, они смотрят на всё другими глазами».
О привычных бытовых условиях начинающим мерзлотоведам не приходится даже мечтать. Жизнь на практике проходит в палатках на участке, до которого ещё надо добраться — сначала поездом, потом машиной, затем пешком. Учатся многому: ставят лагерь, прокладывают маршруты, копают шурфы, изучают обнажения пород, описывают криогенные явления. И параллельно борются с тяготами и лишениями геологической жизни. Главный навык летних практик, по убеждению Шейнкмана, уметь работать в автономном режиме в обстановке дикой природы и при этом оставаться человеком. Ведь на самом деле жизнь в тайге — это не только научные изыскания, но и психологические стрессы, и купание в ледяной воде, а если приходится работать на разрезе, то по уши в грязи и при комарах. Ночью летом могут быть заморозки, может и снег выпасть, а ветер — сорвать палатку.
Летние практики — испытание не только для студентов, но и для вузов, тратящих на эти мероприятия немалые средства. К примеру, час аренды вертолёта стоит 3 тыс. долларов. В советский период проблем с «вертолётными деньгами» не было, поэтому полевой период студентов длился не менее 8 недель в год. И сейчас, чтобы оплачивать такие практики, по словам Шейнкмана, университет должен быть далеко не бедным заведением. Тюмень пока справляется с этой задачей.
Не всем студентам удаётся выдержать таёжный отбор. «Но из тех, кто со мной прошёл через тайгу, точно что-то получится. В этом я уверен», — утверждает учёный.
«Новое поколение вселяет надежду, — подытоживает Владимир Семёнович. — Радует интерес молодёжи к науке, а также её здоровый прагматизм. Однако меня беспокоит, куда будет направлен вектор этого прагматизма: отправятся ли выпускники с полученными знаниями за границу или останутся здесь и будут приносить пользу российской науке. Очень надеюсь, что в современной России появится платформа для молодых учёных, которым будет интересно здесь остаться».



 +7 (499) 40-999-01
+7 (499) 40-999-01